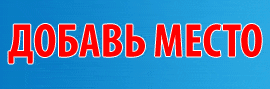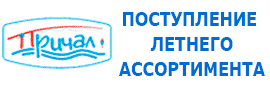Столичный гость и рыболов
Николай Красильников, г. Москва
Уже в зрелом возрасте, встречая рассвет на малых и больших реках Средней Азии, наливающийся спелой свежестью, я не раз повторял вслух запавшие в сердце строки поэта Павла Васильева:
… Ой, темно иртышское дно,Отвори, отвори окно!Слушай, как водяная мышьНа поёме грызёт камыш.И спокойна вода, и вотМолчаливая тень скользнёт:Это синие стрелы щукБороздят лопухи излук,Это всходит вода ясней Звонкой радугой окуней”.
Стихи назывались “Сестра”. И хотя у меня не было сестры, и в стихах говорилось о далёкой сибирской реке, но очень уж родственными и близкими показались строки поэта. Воистину, настоящая поэзия не знает границ.
Потом, перечитывая стихи Павла Васильева, я сделал для себя совершенно неожиданное открытие: он тоже из родуплемени рыболовов! Об этом поэт сам не без гордости признался в одном из своих стихотворений “Послание к Наталии”, где есть такие строки: “… Судьбы свинчаткою не сбитый, Столичный гость и рыболов, Вдыхаю воздух знаменитый Крутых иртышских берегов”, посвященные поэтессе Н. К. Кончаловской, в доме которой в начале 30-х годов, как сейчас бы сказали, тусовалась богемная молодёжь Москвы – поэты, писатели, художники, композиторы… Рыбачить любили в детстве, отрочестве и юности Есенин, которого Васильев боготворил. О рыбалке у великого рязанца есть ряд стихов, да и в письмах к друзьям он не раз упоминал о своей страсти к “удочке и поплавку”. Друг и ровесник Павла, поэт Борис Корнилов, немало встретивший рыбацких зорь на своей родной Ветлуге.
И пусть с возрастом эта любовь незаметно отошла на второй план, осталась в “садках памяти”, она потом не раз всплывала золотой рыбкой в образах и стихах этих поэтов.
Однако почему-то в мемуарной литературе о Павле Васильеве – ни в повести его брата Владимира Николаевича, ни в обстоятельных исследованиях П. Выходцева, Е. Беленького, П. Косенко, С. Куняева, я почти не встретил “рыболовного следа” в жизни поэта… А он – был, был! Щедро и ярко сверкающий во многих его лирических стихах, эпосах и поэмах.
Как-то в 1982 году в беседе с Е. А. Стэнман (в замужестве Киссен) одноклассницей П. Васильева по Павлодарской школе, я поинтересовался:
– Вы не замечали в Павле рыбацкой страсти? Не в школе, разумеется. В разговорах, например…
– Как о большой страсти, ничего не могу вспомнить, сказала Евгения Адольфовна.
– А вот с удочкой летом не раз встречала Павла на улице. Иногда одного, но чаще с ватагой друзей. Какое детство может быть у мальчишек без рыбалки, живущих неподалёку от реки? Да, ещё: в школьной рукописи Васильева “Сказки чернильного деда”, где были стихи о русалках, о старике вместе с внуком, выловившим огромную белорыбицу… Больше ничего не помню.
“Стоп!” зафиксировал я тогда у себя в памяти. – Дед, совместная рыбалка…
Пусть и полусказочная… Не могла же она возникнуть из небытия, на пустом месте? Психологи заметили, что дети многое запоминают с ранних лет.
С пятилетнего возраста Павел крепко запомнил своего деда. Краски и запахи провинциального Павлодара. Его пыльные улочки, метельчатые тополя, палисадники с рясной сиренью, яблоневые сады, мелькающие вдали сквозь зелень – ослепительные блюдца воды, такие заманчивые и притягательные… А рядом, за густым тальником, саманный сарай деда. Корнила Ильич, открывая в него дверь, всегда говорил: “Для рыбалки мало страсти – нужны ещё и снасти!” Стены сарая были обвешаны рыбацкими сетями, по углам ютились верши, сплетённые собственноручно из молодой козьей бредины, стояли связанные в пучки отборные гибкие прутья ольхи. Запас для удилищ. Лодочные вёсла, так напоминающие крылья волшебных птиц.
На верстаке – коробки с блёснами и крючками: одни – для карасей и судаков, другие – кованые, самодельные, для щук и сомов, рыбы крупной, не “шуточной”. На протянутой от стены до стены крепкой бечеве висели гирляндами копчёные, отсвечивающие червонным золотом и капающие жиром, бокастые лещи и сазаны, размером с недельных поросят. При виде всего этого, впечатлительного Павла “окутывала” призрачным туманом приключений надежда, что дед когда-нибудь и его, внука, возьмёт с собой на рыбалку.
Эта детская мечта подкреплялась вечером за семейным самоваром с баранками и вареньем, сдобренными быличками о домовых, леших, ведьмах и прочей нечисти, живущих на дальних займищах, и рассказами деда об утреннем лове в бесчисленных замоинах Иртыша, где часто в знойные дни скапливались “товарные” рыбины.
Свидетельств никаких не осталось: брал ли Корнила Ильич на рыбалку внука или нет, зато нам поэт подарил замечательные стихи о своём деде:
“Корнила Ильич, ты мне сказки баял,Служивый да ладный – вон ты каков!Кружилась за окнами ночь, рябаяОт звёзд, сирени и светляков.Тогда как подкошенная с разлётаВ окно ударялась летучая мышь,Настоянной кровью взбухало болото,Сопя и всасывая камыш.В тяжёлом ковше не тонул, а плавалРасплавленных свеч заколдованный воск,Тогда начиналась твоя забава –Лягушачьи песни и переплёск.Недобрым огнём разжигались поверья,Под мох забиваясь, шипя под золой,И песни летали, как белые перья,Как пух одуванчиков над землёй!”
Двести-триста лет назад русские, преимущественно казаки, заселяя пустынные пространства азиатского прииртышья, обустраивались обычно поближе к реке, где была богатая рыбалка, охота. Там добротно строили свои куреня, избы, сажали огороды, сады, чтоб по весне вишня цвела “пид викном”. Разводили скот – коров, овец, свиней, птиц, другую домашнюю живность… Люди жили своим трудом, натуральным хозяйством. Не отсюда ли, данные переселенцами, названия станиц: Лебяжье, Гусиная пристань, Черлак, Тополев Мыс, Острог-на-Берёзах?.. Что-то в них слышалось рыбье, охотничье, птичье…
Это о них, о земляках-переселенцах песнь поэта:
“… Остались ещё дороги для нас на нашей земле,Сладка походная пища, хохочет она в котле,В котлах ослепшие рыбы ныряют, пена блестит,Наш сон полынным полымем, белой палаткой крыт”.
И путь Ермака Тимофеича со своим не многочисленным войском “по Тоболу и дальше в леса” открывался новыми, таинственными, необжитыми богатыми землями:
“… Край обилен. Пониже, к пескам Чернолучья,Столько птицы, что нету под нею песка,И из каждой волны осетровые жабры да щучьи…И чем больше ты выловишь – будет всё гуще и гуще,И чем больше убьёшь – остальная жирней и нежней”.
Сколько на этих и других нелёгких, порой непроходимых и опасных путях, в поисках мест для наиболее благоприятного обживания, встретилось этим людям безымянных речушек, рек, озёр, изобиловавших рыбой и всякой дичью! Названия этих животворящих артерий древней матушки земли самоцветами искрятся во многих стихах Павла Васильева. Перечислю лишь некоторые. Это – Вахш, Сырдарья, Амударья, Арал, Кульджа, Бухтарма, Или, Усолка, Аю-Куль…
Уже исчезнувшие с лица планеты водоёмы или дышащие на ладан, как это случилось с известным Аральским морем, которое в древности русичи-купцы называли уважительно “Синего”, за небесную его чистоту и необъёмность.
В начале 30-х, попав на Арал, тогда ещё многоводный и многорыбный, Васильев выходил в море с рыбаками. В самый разгар путины тянул вместе с ними сети… И о тех незабываемых днях с “крепким солёным ветром” написал замечательный очерк “Люди на путине”, в котором чувствовалось певучее перо поэта: “… Прямо от дверей Казарсо видны паруса шхун и длинные ряды жердей, увешанные чешуйчатыми мечами “усачей” – вкуснейшей рыбы, которая водится на Арале в изобилии”.
Увы, моря того, когда-то “кипевшего” рыбой и кормившего ею полстраны, уже нет, как и самой страны. И усачей тоже нет. Но нам, живущим в ХХl веке, поэт оставил навсегда в прозе и стихах живое его дыхание, добрую память. Тогда он восхищался морем, а сейчас строки его могут показаться укором: “Не сберегли, не сохранили… Эх!”
Но, пожалуй, немаловажное место в творчестве Павла Васильева отведено реке его детства и юности – Иртышу:
“Камыш высок, осока высока,Тоской набух тугой сосок волчицы,Слетает птица с дикого песка,Крылами бьёт и на волну садится.Река просторной родины моей,Просторная, иди под непогодой,Теки, Иртыш, выплёскивай язей –Князь рыб и птиц, беглец зеленоводый”.
Эпические картины великой сибирской реки, охватывающей часть Казахстана, иногда сменяются частушечно-шутливыми стихами:
“… В станице БутягеХорош улов –Четыре корягиДа пять осетров.А на дикой кочкеЕщё лучшей –Две дырявых бочкиДа семь ершей.У Козьего БродуВсех превзошли –Неводом в непогодуИз реки всю воду Вы-чер-пали!”.
(Поэма “Песня о гибели казачьего войска”).
“Портреты” рыб, излюбленные места их обитания в родной стихии, у Васильева, как всегда, красочны и убедительны. Так могут подмечать только истинные и внимательные рыболовы:
“… У самых берегов покатыхЛениво плещет рыба язь” (Христолюбовские ситцы)“Так, задыхаясьВ кручёных тенётах,Осетры саженныеХвостами бьют”(Раненая песня)
“Слышно было, как большие рыбы
Громко плавились у камышей” (Палисад)
“Щуки пудовыеПо тёплой водеНачертили круги”,“Кружат Ярморочные карусели,Режут воду шипомПенные осетры”(Поэма “Соляной бунт”).
Яркие, волнующие “рыбьи” эпитеты Павла Васильева рассыпаны и в любовной его лирике:
“От ревности девушки хорошеют. Глаза твои шире речных карасей” (“Ей и Алексею Кручёных”), “Анфиса Потанина поставила вёдра, белужьи руки воткнула в бока, широкой волной раскачала бёдра: А твой кто таков? А ты кто така?” (Поэма “Кулаки”). Иногда они перетекают в строфы и отдельные стихотворения:
“… Деревянная щука, карась жестянойИ резное окно в ожерелье стерляжьем,Царство рыбы и птицы!Ты будешь со мной!Мы любви не споём и признаний не скажем.Звонким пухом и синим огнём селезней,Чешуёй, чешуёй обрастай по колено,Чтоб глазок петушиный казался краснейИ над рыбьими перьями ширилась пена”(“Не добраться к тебе! На чужом берегу!”).
Так же прекрасны и неповторимы строки Павла Васильева, когда они обретают фольклорное звучание:
“Глазами рыбьими поверьяЕщё глядит страна моя,Красны и свежи рыбьи перья,Не гаснет рыбья чешуя.И в гнущихся к воде ракитахЛикует голос травяной –То трубами полков разбитых,То балалаечной струной.Я верю – не безноги ели,Дорога с облаком сошлась,И живы чудища доселе –И птица-гусь, и рыба-язь”.1928, Омск.
Как всякий рыболов и поэт, Павел Васильев хорошо знал и понимал гастрономические ценности той или иной рыбы. Изображал их в своих стихах “вкусно”, как фламандский живописец яркими мазками, и по-гомеровски широко:
“… Бочки с мёдом катили, ступая побычьи,И пластали ножами разнеженный жир осетра,Розоватый и тонкий, как нежные пальцы девичьи”(“Строится новый город”).
“Пирог в сажень длиной, пахучий,Завязли в тесте морды щучьи,Плывёт на скатерти икра”.(Поэма “Принц Фома”).
Приезжая в гости к родителям в Омск, куда те в конце 20-х годов перебрались на местожительство, Павел любил погулять по набережной Иртыша. Вспоминал школьные павлодарские годы. И, наверное, первые свои рыбалки, где на Усолке возле Синь-камня в “лещёвых окнах” вытянул первую рыбёшку. Именно после такой поездки у Васильева выплеснулись на свет
“Автобиографические главы”, опубликованные в одном из номеров в 1934 году в “Красной нови”, где есть и такие строки:
“… В загоне кони, ржущие из мглы…
Так вот она, мальчишества берлога –Вот колыбель сумятицы моей!Здесь, может, даже удочки целы.Пойти сыскать, подправить их немногоИ на обрыв опять ловить язей”.
Да, рыбалка никогда не отпускала от себя поэта. Олонецкий колдун слова и златоуст Николай Клюев, после знакомства с Васильевым, посвятил ему стихи: “Полыни сноп, степное юдо, полуказак, полукентавр, в чьей песне бранный гром литавр, багдатский шёлк и перлы грудой, Васильев – омоль с Иртыша. Он выбрал щуку и ерша себе в друзья – на песню право, чтоб цвесть в поэзии купавой…”
Клюев одним из первых разглядел в юноше с Иртыша не только будущую звезду поэтов, но и рыболова. И не ошибся.
РЫБАЛКА КРУГЛЫЙ ГОД № 14(364), 2017 г.