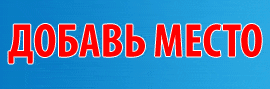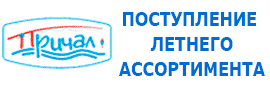Осенняя песня
Александр Токарев, г. Йошкар-Ола
"Пазик" остановился, сквозь плачущие изморосью окна глядели недоуменно пассажиры. Не верилось им, разморенным в автобусном тепле, что вот сейчас этот чудак уйдет в мокрый лес, где и селения-то поблизости нет. Есть только мост, обмелевшая за лето речушка с ледяной водой, мокрый дубняк, да вороны вон чернеют на сухостоинах. Тут только кикиморам водится. Так, наверное, и думалось людям в автобусе...

- Сынок, ты болотики... как там у вас, болотики-то взял? Ишь мокреть какая! - высунулась из окошка старушенция, продремавшая рядом со мной весь путь.
- Взял-взял, бабуля!
Я поправил рюкзак, махнул водителю - спасибо, мол. Тот скалится в зеркальце и крутит пальцем у виска. "И он туда же..." - усмехаюсь, машу еще раз рукой и шагаю по прибитому дождем песку.
Сюда я приезжал только ранней весной и осенью, уже по заморозкам. В это время берега речушки были пустынными. Неуютными для отдыхающей публики. Лишь настоящие "налимятники" приходили к реке и, сторонясь, не кучкуясь в компании, раскидывали по песчаным плесам донки-закидушки. Ночи они проводили без сна - стерегли поклевку.
Ночная ловля накладывала свой отпечаток. Рыболовы, и без того хмурые, в своих плащах с капюшонами в отблесках костра походили на колдунов, таящихся в лесах. Картину дополняли тяжелые облака, висящие над рекой, да мелькали в свете фонариков летучие мыши. На худой случай они и за упырей сошли бы.
Имелось у меня и "свое" место - песчаный пологий откос, заросший тальником. Дальше начинался дубовый и ольховый лес, черный ельник. Место обычное, каких много на реке, но я привык к нему.
Туда и вышел сейчас. Так... На песке чернела фигура в плаще, рядом дымил костерок. В воду уходили струнами лески закидушек. Имело место хозяйский, обжитый вид. Занято.
Пошел по реке, раздвигая мокрые ветви. Минут через десять нескорой ходьбы выбрел на подобный же плес, поменьше. Слева струя, бьющаяся в противоположный берег, закручивалась в водовороте, создавая обратное течение. Видно по темному цвету воды, что яма здесь.
Дождь, приутихший было, вновь заморосил. "На всю ночь, похоже... - сразу заскучалось. - Надо навесик раскинуть, вымочит, зануда, до нитки". Я нарубил тальника, связал, обтянул каркас пленкой. В укрытие и вещи сложил. Не торопясь спустился к реке. Там на замытом в песок бревне напластал на куски небольшую сорожку, наживил крючки и забросил снасти. Закачались на леске латунные колокольчики, зазвенели тоненько. Оттого и река оживилась, хмурая, тихая.
С костром было сложнее. Сушняка в вымоченном дождями лесу не найти. Костер шипел и гас. Береста прогорала, не успев прихватить дрова. Это не в звонком сосновом бору, где расколи смолевый пенек на вкусно пахнущие поленца - и заполыхают они жарко-жарко в любую непогоду.
Я достаю из рюкзака "НЗ" - пару таблеток сухого горючего, зажигаю, обложив щепой, подбрасываю сучьев - пусках обсыхают. А в загудевший вскоре костерок и дубовых кряжей нагромоздил, на всю ночь. В хлопотах и не заметил, как темень наползла. Дождь шуршал по пленке, скользил и звонкими каплями был в котелок, лежащий у навеса. Где-то в ночи слышались осторожные шаги. Может быть, чудилось, а может, и зверь бродил - медведь-муравьятник.
Шорох шагов перешел в тяжелую поступь. Слышалось и дыхание, сиплое, торопливое. Рука невольно потянулась к топору. Отдернул, застыдясь самого себя: "Ну, чего-чего?! Любой зверь пока еще человека боится, а шпану сюда потемну ничем не заманишь. Слабы они душонкой, от того и с ножами ходят. Рыбак припозднился, наверное", - решил и стал ждать.
Вскоре из кустов с треском выбрался человек в мокрой телогрейке. Остановился, глядя на костер. Потом подошел.
- Здорово, - буркнул неприветливо. Он был еще в сумраке, избегая света костра: - На ночь что ли?
- Здравствуйте, - отвечаю осторожно, не определив по голосу возраст незнакомца. - На ночь...
- Придется тебе парень потесниться, место-то мое.
- Написано на нем?
- Ишь, ты, дерзкий... не боишься? А если я со стволом, а?
- Со стволами не здесь ходят.
Наступило тяжелое молчание.
- Ладно, - нарушил тишину незнакомец. - Арсений я, Николаевич... Смотрел я на тебя, может, думаю, мозгляк какой.
Он подошел к костру, сел, устало щурясь на пламя. Лицо его бороздили глубокие морщины, контрастно выделенные в свете костра. Глаза были пусты, равнодушны до тоскливости или казалось так... Усмехнулся, дернув щекой.
- Ты думаешь из-за места я?.. Рыбачь, не жалко. Я все равно без снастей.
- А чего здесь без снастей-то делать? - спросил я, принимая спокойный разговор.
- Мой это интерес...
Помолчали. "Ондатру, наверное, промышляет дед, а может, лося решил завалить?" - гадаю. А тот неожиданно спросил:
- Сколько хоть лет-то тебе?
- За тридцать.
- Тридцать... ему тоже было бы тридцать...
- Кому ему?
- Да, тридцать, - продолжал Арсений Николаевич, не спеша. - Сергунок ты мой, вот я и здесь, здесь я... ты прости, не углядел.
Он схватился за голову и замычал, забормотал что-то несвязное, обращаясь к кому-то только ему видимому. Мне стало по-настоящему жутко. Коротать ночь один на один с безумным стариком?..
- Слышь, дед, ты чего?
- А-а, ты это? Испугался? Не бойся, не кусаюсь я, мух и чертей тоже не ловлю. Грех на мне большой, давит.
- Убили кого?
- Убил?! Ладно, слушай. Все равно - человеческая душа, может, и поймешь чего... Молодой я еще был, ну, как ты. После армии подурил немножко, сам знаешь, - компании, девочки. Бывало и в КПЗ ночевал. О женитьбе и не думалось, а встретил Светлану - вроде жизнь снова начал. Поженились. Сын, Сережка, родился. Не удался он - здоровьишком слабоват был, начал я его по лесам да озерам возить, как меня батя возил в свое время. Окреп он и чуть что: "Папка, когда на рыбалку поедем?" Без рыбалки не мог. Сюда мы каждую осень приезжали, приехали и в ту... Сережка по берегу бегал, топал. Сердился я на него, знать бы... К вечеру я за костер взялся, сын сучья таскал. А потом гляжу - нет его, а в круговерти, вон где и сейчас течение в обрат, мелькнуло что-то, булькнуло. "Сережка!" - кричу. С ямы только пузыри пошли. Я не помню, как нырнул... Облазил весь омут, все топляки поднял, нахлебался сам под завязку... Осталась только одна мысль: найти-найти, пусть мертвого, прижать кровиночку!

Арсений Николаевич захрипел удушливо, словно выталкивая из горла комок, и немного успокоившись, продолжал.
- Нашел я его, ногами нащупал. Поздно было уже. Положил я Сережку на песок, так и просидел с ним всю ночь. Кричал на него. Не знаю зачем... Хохотал лешаком, волоком выл, выл так, что лес, наверное, качался, а утром завернул его в палатку и повез домой. Светлану в тот же день на "Скорой" увезли, а после похорон ушла она от меня...
Арсений Николаевич замолк. Потом поднял затяжелевшие болью глаза на меня.
- Ты, парень, мне больше не мешай. Каждый год я сюда приезжаю, в этот день. С сыном повидаться...
Он уронил голову на грудь и начал говорить ласково, тихо: "Сергунчик, вот и папка твой, ты прости..."
И чудилось мне, будто не ночная птица кричит жалобно, а детский голос в ответ баюкает: "Ничего, папка, ты не плачь, не плачь, все пройдет, папка". Мелькнуло будто что-то у лица, задело крылом, вздохнули деревья: "Ничего, папка, ничего-о-о".
Утром Арсений Николаевич ушел, кивнув угрюмо на прощание, словно сожалея о расплеснутой, высказанной чужому боли. Засобирался и я. Снял с закидушек несколько крупных налимов, сложил со снастями в мокрый мешок. Зашагал по скользкой тропе, а вскоре и на песчаную дорогу вышел. Проходила она по сосновым буграм, по веселому чистому лесу.
Включил приемник. Передавали "Времена года" Чайковского. Печальная строгая мелодия вплелась естественно в шелест дождя, в далекий плач кукушки. Лес парил. Стволы берез, сосен сочились терпкой влагой, от которой в бору пронзительно веяло свежестью. Мелодия вздыхала вместе с ветром, была печальной, тихой, как раздумье, и резало, резало до слез где-то в груди от этой страшной по красоте музыки. И слышалось мне в ее угасании: "Ничего, папка, ничего-о". Звучала "Осенняя песня".
Рыбалка круглый год №20(106), 2006 г.