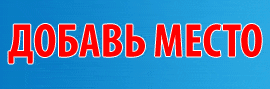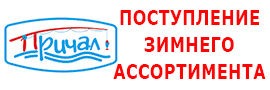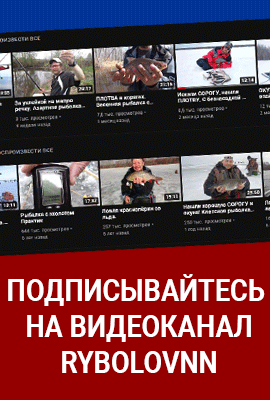Осенние воды
К. Г. Паустовский
Обычно я уезжал из деревни в Москву в конце сентября. Вода в озерах и старицах к тому времени отстаивалась, делалась холодной и чистой. Бурели водяные травы, ветер пригонял к берегам желтую ноздреватую пену. Рыба клевала нехотя, с перерывами.
Приближались обложные дожди, бури, ненастье, свист облетелых ракит – все то уныние поздней осени, когда нет хуже для человека остаться одному в безлюдных местах. Хорошо знаешь, что в пяти-шести километрах есть сухой бревенчатый дом, теплая постель, стол с книгами, кривенький певучий самовар и веселые заботливые люди, но все равно не можешь избавиться от ощущения, что ты безнадежно затерялся среди мертвых зарослей, в тусклых перегонных полях, на берегу свинцовых вод.
Ни человеческого голоса, ни птичьего крика, ни плеска рыбы, только низкий бег рыхлых туч. Из них то летит холодный дождь, то вдруг туманом, залепляя глаза, повалит водянистый снег. Такова была поздняя осень в моем представлении. Ни о какой рыбной ловле, казалось, не могло быть и речи. Рыба уходила в омуты и стояла там в тупом оцепенении, в дремоте. Ей приходилось тесниться во мраке осенних глубин и день и ночь слышать, как шумит над головой окаянный ветер и все плещет волна, размывая глинистый берег.
Перевозчик Сидор Васильевич, человек тихий и уважительный, кутаясь в рыжий овчинный тулупчик, соглашался со мной.
– Это, конечно, так, – говорил он.
– Осенью у рыбы житье каторжное. Никому такой жизни не пожелаешь, пес с ней совсем. И, гляди, все “сентябрит” и “сентябрит”. Днем остудишься так, что за всю ночь в землянке не отойдешь.
Каждый год я уезжал из деревни в Москву без сожаления, хотя в глубине души мне бывало немного совестно, будто я оставлял на тяжелую зиму своих верных друзей – все эти ивы, воды, знакомые кустарники и паромы, а сам бежал в город, к огням, в тепло, в человеческое оживление до новых летних дней.
Такие смешные угрызения совести приходили иногда и в Москве – то во время какого-нибудь заседания, то в Большом зале консерватории. “Что там, – думал я. – Какая, должно быть, тяжелая ночь, ветер, ледяной дождь, размытая неуютная земля. Выживут ли все эти ивы, шиповники, осинки, птицы и рыбы, измотанные бурей?” Но каждую весну, возвращаясь, я удивлялся силе жизни, удивлялся тому, как из зимы расцветал тихий и туманный май, как распускался шиповник, и плескалась в озерах рыба.
В прошлом году я впервые остался в деревне до самой зимы, до морозов и снега. И все оказалось совсем не таким, как я себе представлял, даже если сделать поправку на то, что осень была небывалая. Такой сухой и теплой осени, как писали в газете, не было в России уже семьдесят лет. Деревенские старики соглашались с этим, говорили, что газета, конечно, правильная и что на своей памяти они такой осени не то что не видели, а даже и подумать не могли, что она может быть: “Теплотой так и бьет, так и тянет из-за Оки. И нету этой теплоте ни конца, ни краю”.
Действительно, на юге, за Окой, небо неделями стояло высокое, яркое, распахнутое теплыми ветрами, и оттуда летела паутина. От нее воздух как бы переламывался серебряными ворсинками, играл и поблескивал. Сидя на берегу около удочек, я долго следил за этим зрелищем и прозевывал поклевки.
Растительность высыхала. Зелень переходила в цвет бронзы. Обычного осеннего золота почти не было – очевидно, листва золотеет во время сырости и дождя. Земля была под цвет сухого конского щавеля – красновато-бурая, и только озера лежали на ней разливами зеленоватой воды. Я удил рыбу до самого льда. Это была удивительная, очень медленная и тонкая ловля.
Может быть, я буду писать о вещах давно знакомых опытным рыболовам, но мне бы хотелось передать непосредственное ощущение этой осенней ловли.
Есть много категорий рыболовов, и в каждую такую категорию входят люди со своим особым характером. Есть спиннингисты, есть любители жерлиц, переметов и подпусков, есть чистые удильщики-аксаковцы, есть, наконец, рыболовы, к которым я отношусь подозрительно, – мастера таскать рыбу бреднями и сетями. По-моему, это уже хищники, хотя они и прикидываются мирными и простодушными людьми.
Спиннингисты – народ деятельный, неспокойный, бродячий – они сродни охотникам. А удильщики – это больше созерцатели, поэты, почти сказочники. Между спиннингистами и удильщиками возникают отношения натянутые, я бы сказал, колкие. Спиннингист не прочь посмеяться над удильщиком, отнестись к нему свысока; удильщик же обычно отмалчивается. О чем спорить, если человек не понимает прелести ужения?
Легкие распри среди рыболовов – это, конечно, “древний спор славян между собою”. Человеку со стороны они мало понятны. Мне не к лицу превозносить удильщиков: я принадлежу к их числу. Чтобы быть справедливым, можно, конечно, найти и у удильщиков общие для них недостатки. Разумеется, у них есть свое тщеславие. Они гордятся знанием и пониманием природы и называют себя “аксаковцами”, последователями этого великого знатока и поэта русской природы. Кроме того, удильщики, будучи вообще людьми общительными и словоохотливыми, на рыбной ловле становятся удивительно нелюдимыми. Ничто их так не раздражает, как присутствие посторонних и праздных людей, даже если эти люди сидят за спиной. Каждый удильщик относится к этому с таким же негодованием, как если бы чужой и нахальный человек вошел прямо с улицы в вашу квартиру, уселся, расставив ноги в комнате, и начал молча и нагло рассматривать все вокруг, совершенно не считаясь с хозяевами...
Да, но я отвлекся от рассказа об осенней ловле. Теплая осень была прервана несколькими морозными днями. Земля закаменела, и черви ушли так глубоко, что накопать их не было никакой возможности. Это обстоятельство вызвало смятение среди деревенских приятелей. Мне давали советы искать червей под огромными кучами старого навоза, куда мороз не прошел, или под горой щепы в овраге за четыре километра от деревни. Иные предлагали намыть мотыля, хотя и сознавали, что это сейчас почти невозможно. А самые малодушные утверждали, что червь ушел в землю на три метра и ловлю надо бросать. В конце концов, пришлось идти за четыре километра в глубокий овраг, заваленный щепой.
Никто толком не мог объяснить, как эта щепа попала в овраг, – вблизи не было никаких построек. Я рылся в щепе несколько часов и накопал всего тридцать-сорок червей. На следующий день немного потеплело, но иней лежал в лугах, как крупная каменная соль, а с севера тянуло ледяным пронзительным ветром. Он свистел в кустах и гнал черные тучи. Дальний лес на берегу старицы гудел так сильно, что шум его был хорошо слышен в лугах.
Я шел на луговые озера и бесполезно мечтал о глубоком, но небольшом озере среди этого леса, где даже в такой ветер стоит затишье, – такое затишье, что видна малейшая дрожь поплавка. Я мечтал об этом совершенно зря, так как никакого озера в лесу не было. Но мне очень хотелось, чтобы оно было, и я даже облюбовал сухую и теплую лощину в лесу, где оно должно было бы быть. Такие маленькие лесные озера, величиной с комнату, я видел в лесах около реки Пры. Летом они выглядели очень загадочно – в черной, как деготь, воде плавали водоросли, бегали жуки-плавунцы и что-то поблескивало. Я закинул в такое озерцо удочку, но у самого берега не достал дна. Но как только я передвинул поплавок и червяк лег на дно, поплавок вздрогнул и быстро поплыл в сторону, не окунаясь и не качаясь. Я подсек и вытащил жирного, почти черного карася. Карась равнодушно пожевал губами, ударил один раз хвостом по траве и заснул…
Сейчас я мечтал вот о таком озерце, сидя на берегу лугового озера Студенец, открытого всем ветрам и всем непогодам. У берегов уже образовался ледок, но такой прозрачный, что его нельзя было рассмотреть. Клева не было. Я с тоской смотрел на черную, будто чугунную, воду, на гниющие листья лилий, на волны и прекрасно понимал, что сижу безнадежно. Озеро будто вымерло. В лугах было пусто. Только вдалеке пожилой колхозник в валенках городил вокруг стога изгородь. Кончив городить, он подошел ко мне, присел, закурил и сказал: – Не там ловишь. Это я тебе категорически говорю. Не там.
– А где же ловить?
– Закон такой, – сказал колхозник, не слушая меня. – В луговых озерах в такую позднюю осень рыба не берет. Кидай, куды хочешь: хоть в глыбь, хоть под берег – она не возьмет. Это, милый, дело давны-мдавно проверено. Я тебе категорически говорю. Я сам поудить охочий.
– А где же удить? – снова спросил я.
– Вот то-то, что где, – ответил колхозник. – В реке надо, где вода в движении находится. Иди на реку, тут десять минут ходу. Выбирай место, где берег покруче, под яром, чтобы на воде была гладь. Понятно? Чтобы ветер тебе и рыбе не мозолил глаза. И сиди, жди, рано ли, поздно ли, а рыба к тебе подойдет. Это я тебе говорю окончательно. А тут сидеть, это, милый, занятие для тебя нестоящее.
Я послушался его и пошел на реку. Это была тихая и широкая река с крутыми и высокими песчаными берегами. Течение было заметно только посередине реки, а у берегов вода стояла. Льда не было. Я спустился с крутого берега и с облегчением вздохнул: внизу было тихо, безветрено и даже как будто тепло. А по небу из-за спины неслись и неслись сизые угрюмые тучи.
Я закинул удочки, закурил, засунул руки в рукава тулупа и стал ждать. На песке около моих ног были крупные когтистые следы. Я долго смотрел на эти следы, пока не сообразил, что это следы волка. К этому месту волки выходили из зарослей лозы на водопой. Я вспомнил рассказы колхозников, что нынче волк “голодует”. Как только опустели луга, он тотчас перебрался сюда из лесов, чтобы по крайности питаться хоть мышами-полевками. Мыши к осени так жиреют, что бегают вперевалку, и поймать их ничего не стоит. Я задумался, кажется, даже задремал, согревшись в старом тулупе. Очнулся я, когда над рекой, над лесом, надо мной летел медленный и чистый снег и таял в черной воде.
И тут же я заметил, как перяной поплавок начал осторожно тонуть, – так осторожно, что для того, чтобы совсем уйти под воду, ему понадобилось больше минуты. Так бывает, когда поплавок засасывает ленивым течением или когда наживку тянет рак. Я подождал и на всякий случай подсек – тяжелая рыба бросилась в сторону, и я вытащил хорошего окуня. Второй окунь потопил поплавок еще медленнее и незаметнее, чем первый. А третий только чуть-чуть повел в сторону. Это движение можно было заметить только потому, что не было никакой ряби, и поплавок стоял рядом с корягой, торчавшей из воды. Я долго следил, как страшно медленно увеличивалось расстояние между корягой и поплавком, и, когда оно дошло до метра, подсек и вытащил толстого окуня. Все окуни были холодные, как льдинки.
А снег все падал и падал, и на глазах у меня бурая земля, лишь кое-где расцвеченная лозняком с красной, почти алой корой, превращалась в тихую белую пелену. Колхозник оказался прав. Несколько дней подряд я проверял его слова. Клевало только на реках и то в затишливых и безветреных местах.
С каждым днем лед все больше и больше затягивал реки, озера и старицы. Вначале он был тонкий и прозрачный и по нему ложились, как на море, белые световые дороги от солнца. Потом его присыпало снежком.
Деревенские мальчишки уже играли в хоккей с самодельными клюшками. Только одна полынья долго не замерзала, и от нее поднимался пар. Я пробился к этой полынье на лодке и удил в ней у самой кромки льда. Брали осторожно и медленно окуни. Пока я снимал их с крючков, у меня сводило от холода пальцы.
В лугах появился растрепанный и безобидный старик. Он ходил с метелкой, с огромным корнем сосны, похожим на кузнечный молот, и с сачком.
– Чего делаешь, дед? – спросил я его, когда встретил в первый раз.
– Рыбу колочу подо льдом, по лужам, – признался старик и застенчиво усмехнулся.
– А метелка тебе для чего?
– Это я снег со льда счищаю. Он покуда еще не примерз. Счистишь, вглядишься и, ежели под берегом стоит язь либо щука, – тут и надо бить. Только бить шибко, во весь дух, чтобы рыба брюхом вверх перекинулась. Тогда подламывай лед и хватай ее руками, покуль она не очухалась.
– Много рыбы набил нынче? Дед отвернулся, покашлял.
– Да нет... Ничего, почитай, не набил. Лед больно тонок. Боюсь провалиться. Вот лед окрепнет, сюда язи поднапрут. Я сам видел язей, во каких – на восемь кило, не меньше.
Перевозчик Сидор Васильевич рассказал мне, что старик этот ходит целый месяц, а рыбы почти не приносит, – уж очень стар, куда ему такой охотой взиматься.
– Любитель, – сказал Сидор Васильевич. – Вот так бродит-бродит, все надеется, будто ему попадется язь в десять кило. А я его не обижаю, не смеюсь над ним. У каждого своя мечта.
Но вскоре и старик перестал ходить на озера. Как-то ночью пришла настоящая зима, рассыпалась снегами, завалила льды, и к утру все село уже казалось издали игрушкой из почернелого серебра. Кое-где из крошечных на отдалении изб валил дым и застревал среди старых вязов, пушистых от снега. Осенняя ловля кончилась. Надо было собираться в Москву.
Так вот по мелочам узнаешь что-нибудь новое: как осенью клюет рыба, где надо искать ее и еще что-либо в этом роде, но вокруг этих мелочей накапливается столько разговоров, встреч с людьми, всяких случаев и наблюдений природы, что мелочи приобретают гораздо большее значение, чем мы думаем, и даже заслуживают того, чтобы посвятить им эти строки…
НИЖЕГОРОДСКИЙ РЫБОЛОВ № 6(65), 2017 г.
Обычно я уезжал из деревни в Москву в конце сентября. Вода в озерах и старицах к тому времени отстаивалась, делалась холодной и чистой. Бурели водяные травы, ветер пригонял к берегам желтую ноздреватую пену. Рыба клевала нехотя, с перерывами.
Приближались обложные дожди, бури, ненастье, свист облетелых ракит – все то уныние поздней осени, когда нет хуже для человека остаться одному в безлюдных местах. Хорошо знаешь, что в пяти-шести километрах есть сухой бревенчатый дом, теплая постель, стол с книгами, кривенький певучий самовар и веселые заботливые люди, но все равно не можешь избавиться от ощущения, что ты безнадежно затерялся среди мертвых зарослей, в тусклых перегонных полях, на берегу свинцовых вод.
Ни человеческого голоса, ни птичьего крика, ни плеска рыбы, только низкий бег рыхлых туч. Из них то летит холодный дождь, то вдруг туманом, залепляя глаза, повалит водянистый снег. Такова была поздняя осень в моем представлении. Ни о какой рыбной ловле, казалось, не могло быть и речи. Рыба уходила в омуты и стояла там в тупом оцепенении, в дремоте. Ей приходилось тесниться во мраке осенних глубин и день и ночь слышать, как шумит над головой окаянный ветер и все плещет волна, размывая глинистый берег.
Перевозчик Сидор Васильевич, человек тихий и уважительный, кутаясь в рыжий овчинный тулупчик, соглашался со мной.
– Это, конечно, так, – говорил он.
– Осенью у рыбы житье каторжное. Никому такой жизни не пожелаешь, пес с ней совсем. И, гляди, все “сентябрит” и “сентябрит”. Днем остудишься так, что за всю ночь в землянке не отойдешь.
Каждый год я уезжал из деревни в Москву без сожаления, хотя в глубине души мне бывало немного совестно, будто я оставлял на тяжелую зиму своих верных друзей – все эти ивы, воды, знакомые кустарники и паромы, а сам бежал в город, к огням, в тепло, в человеческое оживление до новых летних дней.
Такие смешные угрызения совести приходили иногда и в Москве – то во время какого-нибудь заседания, то в Большом зале консерватории. “Что там, – думал я. – Какая, должно быть, тяжелая ночь, ветер, ледяной дождь, размытая неуютная земля. Выживут ли все эти ивы, шиповники, осинки, птицы и рыбы, измотанные бурей?” Но каждую весну, возвращаясь, я удивлялся силе жизни, удивлялся тому, как из зимы расцветал тихий и туманный май, как распускался шиповник, и плескалась в озерах рыба.
В прошлом году я впервые остался в деревне до самой зимы, до морозов и снега. И все оказалось совсем не таким, как я себе представлял, даже если сделать поправку на то, что осень была небывалая. Такой сухой и теплой осени, как писали в газете, не было в России уже семьдесят лет. Деревенские старики соглашались с этим, говорили, что газета, конечно, правильная и что на своей памяти они такой осени не то что не видели, а даже и подумать не могли, что она может быть: “Теплотой так и бьет, так и тянет из-за Оки. И нету этой теплоте ни конца, ни краю”.
Действительно, на юге, за Окой, небо неделями стояло высокое, яркое, распахнутое теплыми ветрами, и оттуда летела паутина. От нее воздух как бы переламывался серебряными ворсинками, играл и поблескивал. Сидя на берегу около удочек, я долго следил за этим зрелищем и прозевывал поклевки.
Растительность высыхала. Зелень переходила в цвет бронзы. Обычного осеннего золота почти не было – очевидно, листва золотеет во время сырости и дождя. Земля была под цвет сухого конского щавеля – красновато-бурая, и только озера лежали на ней разливами зеленоватой воды. Я удил рыбу до самого льда. Это была удивительная, очень медленная и тонкая ловля.
Может быть, я буду писать о вещах давно знакомых опытным рыболовам, но мне бы хотелось передать непосредственное ощущение этой осенней ловли.
Есть много категорий рыболовов, и в каждую такую категорию входят люди со своим особым характером. Есть спиннингисты, есть любители жерлиц, переметов и подпусков, есть чистые удильщики-аксаковцы, есть, наконец, рыболовы, к которым я отношусь подозрительно, – мастера таскать рыбу бреднями и сетями. По-моему, это уже хищники, хотя они и прикидываются мирными и простодушными людьми.
Спиннингисты – народ деятельный, неспокойный, бродячий – они сродни охотникам. А удильщики – это больше созерцатели, поэты, почти сказочники. Между спиннингистами и удильщиками возникают отношения натянутые, я бы сказал, колкие. Спиннингист не прочь посмеяться над удильщиком, отнестись к нему свысока; удильщик же обычно отмалчивается. О чем спорить, если человек не понимает прелести ужения?
Легкие распри среди рыболовов – это, конечно, “древний спор славян между собою”. Человеку со стороны они мало понятны. Мне не к лицу превозносить удильщиков: я принадлежу к их числу. Чтобы быть справедливым, можно, конечно, найти и у удильщиков общие для них недостатки. Разумеется, у них есть свое тщеславие. Они гордятся знанием и пониманием природы и называют себя “аксаковцами”, последователями этого великого знатока и поэта русской природы. Кроме того, удильщики, будучи вообще людьми общительными и словоохотливыми, на рыбной ловле становятся удивительно нелюдимыми. Ничто их так не раздражает, как присутствие посторонних и праздных людей, даже если эти люди сидят за спиной. Каждый удильщик относится к этому с таким же негодованием, как если бы чужой и нахальный человек вошел прямо с улицы в вашу квартиру, уселся, расставив ноги в комнате, и начал молча и нагло рассматривать все вокруг, совершенно не считаясь с хозяевами...
Да, но я отвлекся от рассказа об осенней ловле. Теплая осень была прервана несколькими морозными днями. Земля закаменела, и черви ушли так глубоко, что накопать их не было никакой возможности. Это обстоятельство вызвало смятение среди деревенских приятелей. Мне давали советы искать червей под огромными кучами старого навоза, куда мороз не прошел, или под горой щепы в овраге за четыре километра от деревни. Иные предлагали намыть мотыля, хотя и сознавали, что это сейчас почти невозможно. А самые малодушные утверждали, что червь ушел в землю на три метра и ловлю надо бросать. В конце концов, пришлось идти за четыре километра в глубокий овраг, заваленный щепой.
Никто толком не мог объяснить, как эта щепа попала в овраг, – вблизи не было никаких построек. Я рылся в щепе несколько часов и накопал всего тридцать-сорок червей. На следующий день немного потеплело, но иней лежал в лугах, как крупная каменная соль, а с севера тянуло ледяным пронзительным ветром. Он свистел в кустах и гнал черные тучи. Дальний лес на берегу старицы гудел так сильно, что шум его был хорошо слышен в лугах.
Я шел на луговые озера и бесполезно мечтал о глубоком, но небольшом озере среди этого леса, где даже в такой ветер стоит затишье, – такое затишье, что видна малейшая дрожь поплавка. Я мечтал об этом совершенно зря, так как никакого озера в лесу не было. Но мне очень хотелось, чтобы оно было, и я даже облюбовал сухую и теплую лощину в лесу, где оно должно было бы быть. Такие маленькие лесные озера, величиной с комнату, я видел в лесах около реки Пры. Летом они выглядели очень загадочно – в черной, как деготь, воде плавали водоросли, бегали жуки-плавунцы и что-то поблескивало. Я закинул в такое озерцо удочку, но у самого берега не достал дна. Но как только я передвинул поплавок и червяк лег на дно, поплавок вздрогнул и быстро поплыл в сторону, не окунаясь и не качаясь. Я подсек и вытащил жирного, почти черного карася. Карась равнодушно пожевал губами, ударил один раз хвостом по траве и заснул…
Сейчас я мечтал вот о таком озерце, сидя на берегу лугового озера Студенец, открытого всем ветрам и всем непогодам. У берегов уже образовался ледок, но такой прозрачный, что его нельзя было рассмотреть. Клева не было. Я с тоской смотрел на черную, будто чугунную, воду, на гниющие листья лилий, на волны и прекрасно понимал, что сижу безнадежно. Озеро будто вымерло. В лугах было пусто. Только вдалеке пожилой колхозник в валенках городил вокруг стога изгородь. Кончив городить, он подошел ко мне, присел, закурил и сказал: – Не там ловишь. Это я тебе категорически говорю. Не там.
– А где же ловить?
– Закон такой, – сказал колхозник, не слушая меня. – В луговых озерах в такую позднюю осень рыба не берет. Кидай, куды хочешь: хоть в глыбь, хоть под берег – она не возьмет. Это, милый, дело давны-мдавно проверено. Я тебе категорически говорю. Я сам поудить охочий.
– А где же удить? – снова спросил я.
– Вот то-то, что где, – ответил колхозник. – В реке надо, где вода в движении находится. Иди на реку, тут десять минут ходу. Выбирай место, где берег покруче, под яром, чтобы на воде была гладь. Понятно? Чтобы ветер тебе и рыбе не мозолил глаза. И сиди, жди, рано ли, поздно ли, а рыба к тебе подойдет. Это я тебе говорю окончательно. А тут сидеть, это, милый, занятие для тебя нестоящее.
Я послушался его и пошел на реку. Это была тихая и широкая река с крутыми и высокими песчаными берегами. Течение было заметно только посередине реки, а у берегов вода стояла. Льда не было. Я спустился с крутого берега и с облегчением вздохнул: внизу было тихо, безветрено и даже как будто тепло. А по небу из-за спины неслись и неслись сизые угрюмые тучи.
Я закинул удочки, закурил, засунул руки в рукава тулупа и стал ждать. На песке около моих ног были крупные когтистые следы. Я долго смотрел на эти следы, пока не сообразил, что это следы волка. К этому месту волки выходили из зарослей лозы на водопой. Я вспомнил рассказы колхозников, что нынче волк “голодует”. Как только опустели луга, он тотчас перебрался сюда из лесов, чтобы по крайности питаться хоть мышами-полевками. Мыши к осени так жиреют, что бегают вперевалку, и поймать их ничего не стоит. Я задумался, кажется, даже задремал, согревшись в старом тулупе. Очнулся я, когда над рекой, над лесом, надо мной летел медленный и чистый снег и таял в черной воде.
И тут же я заметил, как перяной поплавок начал осторожно тонуть, – так осторожно, что для того, чтобы совсем уйти под воду, ему понадобилось больше минуты. Так бывает, когда поплавок засасывает ленивым течением или когда наживку тянет рак. Я подождал и на всякий случай подсек – тяжелая рыба бросилась в сторону, и я вытащил хорошего окуня. Второй окунь потопил поплавок еще медленнее и незаметнее, чем первый. А третий только чуть-чуть повел в сторону. Это движение можно было заметить только потому, что не было никакой ряби, и поплавок стоял рядом с корягой, торчавшей из воды. Я долго следил, как страшно медленно увеличивалось расстояние между корягой и поплавком, и, когда оно дошло до метра, подсек и вытащил толстого окуня. Все окуни были холодные, как льдинки.
А снег все падал и падал, и на глазах у меня бурая земля, лишь кое-где расцвеченная лозняком с красной, почти алой корой, превращалась в тихую белую пелену. Колхозник оказался прав. Несколько дней подряд я проверял его слова. Клевало только на реках и то в затишливых и безветреных местах.
С каждым днем лед все больше и больше затягивал реки, озера и старицы. Вначале он был тонкий и прозрачный и по нему ложились, как на море, белые световые дороги от солнца. Потом его присыпало снежком.
Деревенские мальчишки уже играли в хоккей с самодельными клюшками. Только одна полынья долго не замерзала, и от нее поднимался пар. Я пробился к этой полынье на лодке и удил в ней у самой кромки льда. Брали осторожно и медленно окуни. Пока я снимал их с крючков, у меня сводило от холода пальцы.
В лугах появился растрепанный и безобидный старик. Он ходил с метелкой, с огромным корнем сосны, похожим на кузнечный молот, и с сачком.
– Чего делаешь, дед? – спросил я его, когда встретил в первый раз.
– Рыбу колочу подо льдом, по лужам, – признался старик и застенчиво усмехнулся.
– А метелка тебе для чего?
– Это я снег со льда счищаю. Он покуда еще не примерз. Счистишь, вглядишься и, ежели под берегом стоит язь либо щука, – тут и надо бить. Только бить шибко, во весь дух, чтобы рыба брюхом вверх перекинулась. Тогда подламывай лед и хватай ее руками, покуль она не очухалась.
– Много рыбы набил нынче? Дед отвернулся, покашлял.
– Да нет... Ничего, почитай, не набил. Лед больно тонок. Боюсь провалиться. Вот лед окрепнет, сюда язи поднапрут. Я сам видел язей, во каких – на восемь кило, не меньше.
Перевозчик Сидор Васильевич рассказал мне, что старик этот ходит целый месяц, а рыбы почти не приносит, – уж очень стар, куда ему такой охотой взиматься.
– Любитель, – сказал Сидор Васильевич. – Вот так бродит-бродит, все надеется, будто ему попадется язь в десять кило. А я его не обижаю, не смеюсь над ним. У каждого своя мечта.
Но вскоре и старик перестал ходить на озера. Как-то ночью пришла настоящая зима, рассыпалась снегами, завалила льды, и к утру все село уже казалось издали игрушкой из почернелого серебра. Кое-где из крошечных на отдалении изб валил дым и застревал среди старых вязов, пушистых от снега. Осенняя ловля кончилась. Надо было собираться в Москву.
Так вот по мелочам узнаешь что-нибудь новое: как осенью клюет рыба, где надо искать ее и еще что-либо в этом роде, но вокруг этих мелочей накапливается столько разговоров, встреч с людьми, всяких случаев и наблюдений природы, что мелочи приобретают гораздо большее значение, чем мы думаем, и даже заслуживают того, чтобы посвятить им эти строки…
НИЖЕГОРОДСКИЙ РЫБОЛОВ № 6(65), 2017 г.