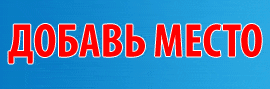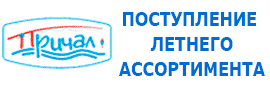На заволжских озерах
Петр Суворов
В дороге
 В июле прошлого года я и мой друг Михаил Алексеевич (зимой – научный работник, литограф, а летом заядлый рыболов и художник) после долгих и приятных сборов сели наконец в поезд, отправлявшийся в Горький. Уже с самого раннего утра мы были в суете – звонили друг другу, справлялись, как идут сборы, торопили один другого...
В июле прошлого года я и мой друг Михаил Алексеевич (зимой – научный работник, литограф, а летом заядлый рыболов и художник) после долгих и приятных сборов сели наконец в поезд, отправлявшийся в Горький. Уже с самого раннего утра мы были в суете – звонили друг другу, справлялись, как идут сборы, торопили один другого...
На вокзале мы сразу же обратили на себя внимание всех пассажиров. Да и было на что посмотреть! У Михаила Алексеевича через плечо был перекинут ремень большого ящика с красками, за спиной висел туго набитый рюкзак. Обе руки его тоже были заняты: в одной – толстая пачка аккуратно завернутых и перевязанных бечевой удилищ, в другой – большой черный чемодан с металлическими углами. У меня тоже была необычная поклажа. Кроме рюкзака и старой, обтертой, видавшей виды картонки, я держал связанные веревкой два громадных фанерных листа. Они у меня то и дело выскальзывали из рук, задевали за все, мешали при ходьбе. Митя, сын Михаила Алексеевича, нес сетку с едой, ведерко и порыжевший от времени, раздувшийся отцовский портфель. Проверяя наши билеты у входа в вагон, проводник строго посмотрел на Михаила Алексеевича, на его удилище, на меня, на фанерные листы и покачал головой:
– В багаж бы надо, товарищи!
Михаил Алексеевич виновато улыбнулся:
– Это все легкие вещи, только вот фанера немножко неудобная. Ну да как-нибудь устроимся! Мешать никому не будем.
Он и в самом деле разместил все вещи с большим искусством. Свой чемодан – под одну лавку, мою картонку – под другую, ведерко и ящик с красками – около столика, рюкзаки – на вторую полку, портфель и сетку повесил на крючок, фанеру и удилища положил поперек на две самые верхние полки. Наконец для всего нашлось место, и только фанера, словно крыша, нависала над нами. Поезд дрогнул и застучал по стрелкам. Мы улыбались друг другу, озабоченно вспоминали, все ли захватили с собой, проверяли по списку наше снаряжение.
– Кружки?
– Есть!
– Шурупы?
– Есть!
– Анисовые?
– Есть!
– Значит, едем, старик?
– Едем, едем!
И поезд отстукивал: е-де-дем, е-де-дем, е-де-дем...
Митя не мог усидеть спокойно на месте. Он подходил к окну, подсаживался к нам, залезал на полку, вступал в разговоры с соседями. А мы с Михаилом Алексеевичем сидели и думали о предстоящем отдыхе. То один, то другой спрашивал:
– Как ты думаешь: приготовил Иван Васильевич тес?
– Выдержит нас двоих?
– Куда мы ее сначала спустим: на Рассоху или в Кудьму?
– Я думаю, надо будет кружки еще раз покрасить.
– Не стоит... Вот тройнички подточить следует.
Эти загадочные разговоры и наш необычный багаж заинтересовали соседей по вагону. Они, видимо, не решались расспрашивать нас и поэтому обращались к Мите.
– Куда это вы едете? – спрашивали они.
– К дяде Ивану.
– А где живет дядя Иван?
– Да в Голошубихе!
– Где же это будет?
– На Волге.
– А фанеру зачем везете?
– Лодку делать будем!
– Из фанеры-то?
– Ну да, из фанеры!
Пассажиры, сомневаясь, покачивали головами:
– Да уж не ты ли делать будешь?
– Нет, дядя Петя с папой. У них и чертежи есть в чемодане.
Чертежи, о которых говорил Митя, мы приготовили еще зимой и теперь везли в Голошубиху все, что нужно было для постройки самодельной лодки. Мы везли резиновую прокладку для швов (чтобы лодка не протекала), краску, олифу, шурупы и множество всяких чудесных вещей. Заранее написали нашему хозяину, старому рыбаку Ивану Васильевичу, чтобы он заготовил для нас две сухие широкие тесины.
Митя ехал с нами на рыбную ловлю впервые. Для него, обыкновенного городского мальчика, все было ново: и необычные, не похожие на дачные, сборы, и наш невероятный багаж, и то, что мы сами будем строить лодку. Особенно заманчивой казалась ему предстоящая вольная жизнь на берегу, ночевки в палатке.
Еще зимой в семье Михаила Алексеевича обсуждался вопрос: отпустить ли Митю с отцом на Волгу или отправить его с бабушкой на дачу? Дело решилось в последнюю минуту. Митя так просился, что Михаил Алексеевич не мог устоять.
В дороге Митя то и дело спрашивал нас:
– Папа, а как мы назовем нашу лодку? Давайте назовем ее "Чайкой"!
– Нет, Митя, это не годится, – отвечал Михаил Алексеевич. – Каждая десятая лодка называется "Чайкой".
– Ну, тогда назовем ее "Гагарой"!
– "Гагар" тоже немало. Мы придумаем ей такое название, какого не было еще ни у одной лодки.
– Папа, а по Кудьме ходят пароходы?..
– Дядя Петя, а на что мы будем ловить?..
– Папа, для чего анисовые капли взяли?
И мы подробно и с охотой отвечали на все его вопросы.
– Куда поедем? – спросил шофер, закрывая борта машины.
– На пристань.
– А на какую? У нас их много!
– Нам надо вниз, до Работок.
– Ну, до Работок вы и на местном можете доехать. Сегодня в десять часов пойдет пароход "Колхозница". А в двенадцать отвалит "Гражданин". Это астраханский. На нем бы вам, конечно, удобнее было ехать. Там и каюту взять можно.
– Нет, уж дожидаться мы не будем. Лучше на "Колхозницу" возьмем билеты. Каюта нам не нужна, а зато раньше приедем.
– Как хотите, вам виднее. Давайте на местную пристань отвезу, сказал шофер.
Машина тронулась.
Миновав тихие привокзальные улицы, мы выехали на набережную. Прямо перед нами на высокой горе стоял большой красивый город. Его мягкие очертания тонули в утренней дымке, терялись в ней, и от этого он казался еще больше.
Город спал, и только река и порт жили своей ни днем ни ночью не прекращающейся жизнью. По широкой реке неустанно сновали в разных направлениях маленькие шустрые катера; тяжело хлопали колесами буксирные пароходы, сминая плицами спокойную гладь воды; тянулись караваны барж; скрипели землечерпалки; перекликались разноголосые гудки.
А вот знаменитый горьковский мост! Он перекинут через Оку, впадающую здесь в Волгу. Отсюда, с моста, хорошо виден весь громадный горьковский порт. Под горой, у дебаркадеров, вытянулась длинная вереница белоснежных пассажирских пароходов. Из белых труб с красными или синими каемками вился легкий дымок. Матросы мыли палубы, чистили медные поручни. Такие же белые, как эти пароходы, над рекой носились чайки, стремительно опускаясь на воду и снова взмывая вверх.
До чего же красив город Горький! С каждым годом он хорошеет все больше и больше. Всего только два года прошло с тех пор, как мы были здесь в последний раз, но и за это время он успел сильно измениться, стал наряднее, оживленнее. Вон у того берега, ниже моста, возвышается новая ажурная бело-голубая вышка водной станции "Динамо" с массой шлюпок, моторок, стройных парусных лодок и яхт. На высоком берегу построены красивые павильоны речного вокзала, с широкими лестницами, спускающимися к дебаркадерам, с громадными вазами цветов, с резными арками. Еще выше, на горе, среди зелени поднимаются стены и башни древнего горьковского Кремля. А на Волге стало так много пароходов, что у каждого дебаркадера им приходится стоять по два и даже по три в ряд! Справа, выше моста, на Оке выстроились свои пристани, свои вереницы пароходов.
Весь берег по обеим сторонам моста до самой воды был заставлен всевозможными грузами: большими и маленькими ящиками, мотками толстой проволоки, пачками листового железа, деревянными и металлическими бочками, канатами. Под навесами и брезентами лежали штабелями аккуратно уложенные, туго набитые мешки и рогожные кули. Здесь же стояли, блестя свежей краской сквозь редкую деревянную обшивку, какие-то машины. Тарахтели погрузочные конвейеры, по сходням спускались грузчики.
Проехав мост, машина свернула влево, и вскоре мы уже сидели на пристани, устроившись между якорными цепями и связками дубовой клепки, вдыхая знакомые запахи смолы, рыбных бочек, рогожи, прислушиваясь к шуму машин и гудкам пароходов, грохоту лебедок, крикам матросов и грузчиков.
– Это и есть пароход "Колхозница"? Какой он маленький! Таких на Москве-реке сколько хочешь, – огорчился Митя. – Лучше бы на "Гражданине" ехать.
– Ничего, Митя, – ответил Михаил Алексеевич, – зато мы на "Колхознице" в Голошубиху приедем раньше. А вот когда обратно поедем, обязательно возьмем билеты на "Гражданина", а может быть, и сам "Тимирязев" тогда подойдет.
Мы устроились на носу пароходика, в общей маленькой каюте, которая быстро наполнилась пассажирами. Пароход прогудел один, другой, третий раз и, отвалив от пристани, развернулся, побежал вниз по широкой Волге мимо пароходов, пристаней и древних стен старого города.
От работы машины пароход ритмично подрагивал, тоненько звенели стеклянные подвески люстры, в каюту проникал запах теплого машинного масла.
Солнце стало основательно припекать. Утомленный дорогой и бессонной ночью, Михаил Алексеевич задремал, подперев рукой седеющую голову. Просыпаясь, он как-то виновато улыбался, старался подбодриться, но снова закрывал глаза, не в силах бороться со сном. Мне тоже хотелось спать, но я крепился. Неугомонный Митя и здесь не мог усидеть спокойно на месте: он проталкивался к двери, снова возвращался на место, вызывая неодобрительные взгляды соседей, приставал к Михаилу Алексеевичу с разговорами.
– Митя, не трогай отца, дай ему поспать немного! Посиди спокойно на месте.
Но присмирел Митя ненадолго. Скоро он стал проситься на верхнюю палубу, где была капитанская рубка. Я и сам был не прочь выбраться из каюты и рассеять одолевавшую меня сонливость. Мы оставили заснувшего Михаила Алексеевича, а сами протискались между тесно сидящими пассажирами к выходу, перешагивая через узлы, корзины, тюки и чьи-то протянутые ноги. По узенькой лестнице с крутыми железными ступеньками и с начищенными медными поручнями мы поднялись наверх.
В рубке за штурвальным колесом стоял совсем молодой парень с комсомольским значком, а перед рубкой на белой скамеечке под парусиновым тентом сидел подтянутый коренастый старик в опрятном кителе и форменной фуражке. Это был сам капитан. Лицо у него было загорелое, обветренное с аккуратно подстриженной седой бородой и нависшими бровями. От глаз разбегались лучами мелкие морщинки. Наверно, от яркого солнца, отблесков воды, белого песка отмелей и встречных ветров капитан привык щурить глаза. Показывая рукой вперед на идущий навстречу буксирный пароход с целым караваном барж, капитан говорил своему штурвальному:
– Пропусти его, Вася, справа. Только не прижимайся близко. Убавь до "тихого", а то мы не разойдемся. Там место узкое.
– Есть! – солидно отчеканил штурвальный, выполняя указание капитана.
Зазвенел звонок машинного телеграфа, и пароход заметно убавил ход. Капитан потянул ручку гудка, и "Колхозница" длинно прогудела встречному каравану. Капитан взял из рубки свернутый белый флаг, развернул его и, выйдя на правый мостик, несколько раз взмахнул им. Буксир дал ответный гудок, и на его левой стороне также замелькал белый флаг.
– Убавь, Вася, до "самого тихого". Видишь, они идут с большим грузом и против течения, а нас и так потихоньку вниз вода сносит. Примечай это!
Вновь зазвенел телеграф, и послушный пароход настолько убавил ход, что почти не стало слышно шума работающей машины. Когда буксир поравнялся с "Колхозницей", из его рубки вышел вахтенный и, приподняв фуражку, поздоровался с нашим капитаном.
Когда капитан сел опять на свою скамеечку, мы с Митей подошли к нему и попросили разрешения постоять здесь. Капитан разрешил, а когда узнал, что мы едем в Голошубиху, совсем признал меня за своего. Оказывается, он сам был из соседнего с Голошубихой села – Кадниц, а штурвальный – из Кувардина. Кадницы, Кувардино, Голошубиха и Работки славятся по всей Волге. Там какой дом ни возьмешь, кто-нибудь да работает на пароходе или капитаном, или помощником, или механиком, или лоцманом, или штурвальным.
– Хозяина-то вашего, Ивана Васильевича, я хорошо знаю, – сказал капитан. – Мы с ним еще на "Суворове" вместе ходили. Он – лоцманом, а я – штурвальным. Хороший был пароход, первый ходок на Волге! Я после штурвального стал лоцманом, а потом вот и до капитана дослужился. Сейчас на "Тимирязева" перевести хотят. Знаете этот теплоход?
– Как не знать! Один из лучших теплоходов на Волге.
– Еще бы! На скорую линию плохой пароход не пустят! – сказал капитан. – А где вы сходить будете – в Кадницах или в Работках?
– В Работках, – ответил Митя. – Там нас дядя Иван на лодке встречать будет.
– Зачем же на лодке? Погудим бакенщику, затребуем лодку, и прямо у Голошубихи слезете.
Хотя высадиться у самой Голошубихи было бы очень удобно, я отказался, так как знал, что Иван Васильевич обязательно выедет встречать нас в Работки. Митя уже забрался в маленькую рубку к штурвальному, попросил бинокль и стал рассматривать берега, приставляя бинокль к глазам то одной, то другой стороной.
– Дядя Петя, какой ты маленький и как далеко стоишь! А сейчас во какой! Даже в бинокль не влезаешь!
На лестнице показалась голова озабоченного Михаила Алексеевича в новенькой белой панаме, которую он только что достал из чемодана.
– Вот вы где! А я-то вас по всему пароходу ищу, – сказал он и укоризненно посмотрел на меня. – Я вздремнул немного, а ты и не разбудил меня!
– Вот так вздремнул! Ты часа два спал.
Знакомые излучины реки, деревни и села сменяли друг друга. Вот и Безводное. Скоро будут Кадницы, потом затон имени Парижской коммуны. Вон на горе Кувардино. А через глубокие овраги высокого правого берега видны уже игрушечные баньки Голошубихи, налепленные по склонам зеленого холма. На высоком берегу, где расположена Голошубиха, у скамейки стояли люди. Но даже и в бинокль нельзя было разобрать, кто это, хотя я наперечет знал почти всех жителей этой деревни. На всякий случай мы с Митей начали усиленно махать платками, а Михаил Алексеевич – своей белой панамой.
Продолжение следует
В дороге
 В июле прошлого года я и мой друг Михаил Алексеевич (зимой – научный работник, литограф, а летом заядлый рыболов и художник) после долгих и приятных сборов сели наконец в поезд, отправлявшийся в Горький. Уже с самого раннего утра мы были в суете – звонили друг другу, справлялись, как идут сборы, торопили один другого...
В июле прошлого года я и мой друг Михаил Алексеевич (зимой – научный работник, литограф, а летом заядлый рыболов и художник) после долгих и приятных сборов сели наконец в поезд, отправлявшийся в Горький. Уже с самого раннего утра мы были в суете – звонили друг другу, справлялись, как идут сборы, торопили один другого... На вокзале мы сразу же обратили на себя внимание всех пассажиров. Да и было на что посмотреть! У Михаила Алексеевича через плечо был перекинут ремень большого ящика с красками, за спиной висел туго набитый рюкзак. Обе руки его тоже были заняты: в одной – толстая пачка аккуратно завернутых и перевязанных бечевой удилищ, в другой – большой черный чемодан с металлическими углами. У меня тоже была необычная поклажа. Кроме рюкзака и старой, обтертой, видавшей виды картонки, я держал связанные веревкой два громадных фанерных листа. Они у меня то и дело выскальзывали из рук, задевали за все, мешали при ходьбе. Митя, сын Михаила Алексеевича, нес сетку с едой, ведерко и порыжевший от времени, раздувшийся отцовский портфель. Проверяя наши билеты у входа в вагон, проводник строго посмотрел на Михаила Алексеевича, на его удилище, на меня, на фанерные листы и покачал головой:
– В багаж бы надо, товарищи!
Михаил Алексеевич виновато улыбнулся:
– Это все легкие вещи, только вот фанера немножко неудобная. Ну да как-нибудь устроимся! Мешать никому не будем.
Он и в самом деле разместил все вещи с большим искусством. Свой чемодан – под одну лавку, мою картонку – под другую, ведерко и ящик с красками – около столика, рюкзаки – на вторую полку, портфель и сетку повесил на крючок, фанеру и удилища положил поперек на две самые верхние полки. Наконец для всего нашлось место, и только фанера, словно крыша, нависала над нами. Поезд дрогнул и застучал по стрелкам. Мы улыбались друг другу, озабоченно вспоминали, все ли захватили с собой, проверяли по списку наше снаряжение.
– Кружки?
– Есть!
– Шурупы?
– Есть!
– Анисовые?
– Есть!
– Значит, едем, старик?
– Едем, едем!
И поезд отстукивал: е-де-дем, е-де-дем, е-де-дем...
Митя не мог усидеть спокойно на месте. Он подходил к окну, подсаживался к нам, залезал на полку, вступал в разговоры с соседями. А мы с Михаилом Алексеевичем сидели и думали о предстоящем отдыхе. То один, то другой спрашивал:
– Как ты думаешь: приготовил Иван Васильевич тес?
– Выдержит нас двоих?
– Куда мы ее сначала спустим: на Рассоху или в Кудьму?
– Я думаю, надо будет кружки еще раз покрасить.
– Не стоит... Вот тройнички подточить следует.
Эти загадочные разговоры и наш необычный багаж заинтересовали соседей по вагону. Они, видимо, не решались расспрашивать нас и поэтому обращались к Мите.
– Куда это вы едете? – спрашивали они.
– К дяде Ивану.
– А где живет дядя Иван?
– Да в Голошубихе!
– Где же это будет?
– На Волге.
– А фанеру зачем везете?
– Лодку делать будем!
– Из фанеры-то?
– Ну да, из фанеры!
Пассажиры, сомневаясь, покачивали головами:
– Да уж не ты ли делать будешь?
– Нет, дядя Петя с папой. У них и чертежи есть в чемодане.
Чертежи, о которых говорил Митя, мы приготовили еще зимой и теперь везли в Голошубиху все, что нужно было для постройки самодельной лодки. Мы везли резиновую прокладку для швов (чтобы лодка не протекала), краску, олифу, шурупы и множество всяких чудесных вещей. Заранее написали нашему хозяину, старому рыбаку Ивану Васильевичу, чтобы он заготовил для нас две сухие широкие тесины.
Митя ехал с нами на рыбную ловлю впервые. Для него, обыкновенного городского мальчика, все было ново: и необычные, не похожие на дачные, сборы, и наш невероятный багаж, и то, что мы сами будем строить лодку. Особенно заманчивой казалась ему предстоящая вольная жизнь на берегу, ночевки в палатке.
Еще зимой в семье Михаила Алексеевича обсуждался вопрос: отпустить ли Митю с отцом на Волгу или отправить его с бабушкой на дачу? Дело решилось в последнюю минуту. Митя так просился, что Михаил Алексеевич не мог устоять.
В дороге Митя то и дело спрашивал нас:
– Папа, а как мы назовем нашу лодку? Давайте назовем ее "Чайкой"!
– Нет, Митя, это не годится, – отвечал Михаил Алексеевич. – Каждая десятая лодка называется "Чайкой".
– Ну, тогда назовем ее "Гагарой"!
– "Гагар" тоже немало. Мы придумаем ей такое название, какого не было еще ни у одной лодки.
– Папа, а по Кудьме ходят пароходы?..
– Дядя Петя, а на что мы будем ловить?..
– Папа, для чего анисовые капли взяли?
И мы подробно и с охотой отвечали на все его вопросы.
* * *
Поезд подошел к Горькому рано утром. Трамваи еще не ходили. Мы вынесли наши вещи на вокзальную площадь и погрузили их на грузовое такси. Михаил Алексеевич и я залезли в кузов, а Митя захотел сесть в кабине с шофером. – Куда поедем? – спросил шофер, закрывая борта машины.
– На пристань.
– А на какую? У нас их много!
– Нам надо вниз, до Работок.
– Ну, до Работок вы и на местном можете доехать. Сегодня в десять часов пойдет пароход "Колхозница". А в двенадцать отвалит "Гражданин". Это астраханский. На нем бы вам, конечно, удобнее было ехать. Там и каюту взять можно.
– Нет, уж дожидаться мы не будем. Лучше на "Колхозницу" возьмем билеты. Каюта нам не нужна, а зато раньше приедем.
– Как хотите, вам виднее. Давайте на местную пристань отвезу, сказал шофер.
Машина тронулась.
Миновав тихие привокзальные улицы, мы выехали на набережную. Прямо перед нами на высокой горе стоял большой красивый город. Его мягкие очертания тонули в утренней дымке, терялись в ней, и от этого он казался еще больше.
Город спал, и только река и порт жили своей ни днем ни ночью не прекращающейся жизнью. По широкой реке неустанно сновали в разных направлениях маленькие шустрые катера; тяжело хлопали колесами буксирные пароходы, сминая плицами спокойную гладь воды; тянулись караваны барж; скрипели землечерпалки; перекликались разноголосые гудки.
А вот знаменитый горьковский мост! Он перекинут через Оку, впадающую здесь в Волгу. Отсюда, с моста, хорошо виден весь громадный горьковский порт. Под горой, у дебаркадеров, вытянулась длинная вереница белоснежных пассажирских пароходов. Из белых труб с красными или синими каемками вился легкий дымок. Матросы мыли палубы, чистили медные поручни. Такие же белые, как эти пароходы, над рекой носились чайки, стремительно опускаясь на воду и снова взмывая вверх.
До чего же красив город Горький! С каждым годом он хорошеет все больше и больше. Всего только два года прошло с тех пор, как мы были здесь в последний раз, но и за это время он успел сильно измениться, стал наряднее, оживленнее. Вон у того берега, ниже моста, возвышается новая ажурная бело-голубая вышка водной станции "Динамо" с массой шлюпок, моторок, стройных парусных лодок и яхт. На высоком берегу построены красивые павильоны речного вокзала, с широкими лестницами, спускающимися к дебаркадерам, с громадными вазами цветов, с резными арками. Еще выше, на горе, среди зелени поднимаются стены и башни древнего горьковского Кремля. А на Волге стало так много пароходов, что у каждого дебаркадера им приходится стоять по два и даже по три в ряд! Справа, выше моста, на Оке выстроились свои пристани, свои вереницы пароходов.
Весь берег по обеим сторонам моста до самой воды был заставлен всевозможными грузами: большими и маленькими ящиками, мотками толстой проволоки, пачками листового железа, деревянными и металлическими бочками, канатами. Под навесами и брезентами лежали штабелями аккуратно уложенные, туго набитые мешки и рогожные кули. Здесь же стояли, блестя свежей краской сквозь редкую деревянную обшивку, какие-то машины. Тарахтели погрузочные конвейеры, по сходням спускались грузчики.
Проехав мост, машина свернула влево, и вскоре мы уже сидели на пристани, устроившись между якорными цепями и связками дубовой клепки, вдыхая знакомые запахи смолы, рыбных бочек, рогожи, прислушиваясь к шуму машин и гудкам пароходов, грохоту лебедок, крикам матросов и грузчиков.
* * *
В восемь часов к пристани бойко причалил пароходик, чуть не до самой трубы заваленный ящиками. – Это и есть пароход "Колхозница"? Какой он маленький! Таких на Москве-реке сколько хочешь, – огорчился Митя. – Лучше бы на "Гражданине" ехать.
– Ничего, Митя, – ответил Михаил Алексеевич, – зато мы на "Колхознице" в Голошубиху приедем раньше. А вот когда обратно поедем, обязательно возьмем билеты на "Гражданина", а может быть, и сам "Тимирязев" тогда подойдет.
Мы устроились на носу пароходика, в общей маленькой каюте, которая быстро наполнилась пассажирами. Пароход прогудел один, другой, третий раз и, отвалив от пристани, развернулся, побежал вниз по широкой Волге мимо пароходов, пристаней и древних стен старого города.
От работы машины пароход ритмично подрагивал, тоненько звенели стеклянные подвески люстры, в каюту проникал запах теплого машинного масла.
Солнце стало основательно припекать. Утомленный дорогой и бессонной ночью, Михаил Алексеевич задремал, подперев рукой седеющую голову. Просыпаясь, он как-то виновато улыбался, старался подбодриться, но снова закрывал глаза, не в силах бороться со сном. Мне тоже хотелось спать, но я крепился. Неугомонный Митя и здесь не мог усидеть спокойно на месте: он проталкивался к двери, снова возвращался на место, вызывая неодобрительные взгляды соседей, приставал к Михаилу Алексеевичу с разговорами.
– Митя, не трогай отца, дай ему поспать немного! Посиди спокойно на месте.
Но присмирел Митя ненадолго. Скоро он стал проситься на верхнюю палубу, где была капитанская рубка. Я и сам был не прочь выбраться из каюты и рассеять одолевавшую меня сонливость. Мы оставили заснувшего Михаила Алексеевича, а сами протискались между тесно сидящими пассажирами к выходу, перешагивая через узлы, корзины, тюки и чьи-то протянутые ноги. По узенькой лестнице с крутыми железными ступеньками и с начищенными медными поручнями мы поднялись наверх.
В рубке за штурвальным колесом стоял совсем молодой парень с комсомольским значком, а перед рубкой на белой скамеечке под парусиновым тентом сидел подтянутый коренастый старик в опрятном кителе и форменной фуражке. Это был сам капитан. Лицо у него было загорелое, обветренное с аккуратно подстриженной седой бородой и нависшими бровями. От глаз разбегались лучами мелкие морщинки. Наверно, от яркого солнца, отблесков воды, белого песка отмелей и встречных ветров капитан привык щурить глаза. Показывая рукой вперед на идущий навстречу буксирный пароход с целым караваном барж, капитан говорил своему штурвальному:
– Пропусти его, Вася, справа. Только не прижимайся близко. Убавь до "тихого", а то мы не разойдемся. Там место узкое.
– Есть! – солидно отчеканил штурвальный, выполняя указание капитана.
Зазвенел звонок машинного телеграфа, и пароход заметно убавил ход. Капитан потянул ручку гудка, и "Колхозница" длинно прогудела встречному каравану. Капитан взял из рубки свернутый белый флаг, развернул его и, выйдя на правый мостик, несколько раз взмахнул им. Буксир дал ответный гудок, и на его левой стороне также замелькал белый флаг.
– Убавь, Вася, до "самого тихого". Видишь, они идут с большим грузом и против течения, а нас и так потихоньку вниз вода сносит. Примечай это!
Вновь зазвенел телеграф, и послушный пароход настолько убавил ход, что почти не стало слышно шума работающей машины. Когда буксир поравнялся с "Колхозницей", из его рубки вышел вахтенный и, приподняв фуражку, поздоровался с нашим капитаном.
Когда капитан сел опять на свою скамеечку, мы с Митей подошли к нему и попросили разрешения постоять здесь. Капитан разрешил, а когда узнал, что мы едем в Голошубиху, совсем признал меня за своего. Оказывается, он сам был из соседнего с Голошубихой села – Кадниц, а штурвальный – из Кувардина. Кадницы, Кувардино, Голошубиха и Работки славятся по всей Волге. Там какой дом ни возьмешь, кто-нибудь да работает на пароходе или капитаном, или помощником, или механиком, или лоцманом, или штурвальным.
– Хозяина-то вашего, Ивана Васильевича, я хорошо знаю, – сказал капитан. – Мы с ним еще на "Суворове" вместе ходили. Он – лоцманом, а я – штурвальным. Хороший был пароход, первый ходок на Волге! Я после штурвального стал лоцманом, а потом вот и до капитана дослужился. Сейчас на "Тимирязева" перевести хотят. Знаете этот теплоход?
– Как не знать! Один из лучших теплоходов на Волге.
– Еще бы! На скорую линию плохой пароход не пустят! – сказал капитан. – А где вы сходить будете – в Кадницах или в Работках?
– В Работках, – ответил Митя. – Там нас дядя Иван на лодке встречать будет.
– Зачем же на лодке? Погудим бакенщику, затребуем лодку, и прямо у Голошубихи слезете.
Хотя высадиться у самой Голошубихи было бы очень удобно, я отказался, так как знал, что Иван Васильевич обязательно выедет встречать нас в Работки. Митя уже забрался в маленькую рубку к штурвальному, попросил бинокль и стал рассматривать берега, приставляя бинокль к глазам то одной, то другой стороной.
– Дядя Петя, какой ты маленький и как далеко стоишь! А сейчас во какой! Даже в бинокль не влезаешь!
На лестнице показалась голова озабоченного Михаила Алексеевича в новенькой белой панаме, которую он только что достал из чемодана.
– Вот вы где! А я-то вас по всему пароходу ищу, – сказал он и укоризненно посмотрел на меня. – Я вздремнул немного, а ты и не разбудил меня!
– Вот так вздремнул! Ты часа два спал.
Знакомые излучины реки, деревни и села сменяли друг друга. Вот и Безводное. Скоро будут Кадницы, потом затон имени Парижской коммуны. Вон на горе Кувардино. А через глубокие овраги высокого правого берега видны уже игрушечные баньки Голошубихи, налепленные по склонам зеленого холма. На высоком берегу, где расположена Голошубиха, у скамейки стояли люди. Но даже и в бинокль нельзя было разобрать, кто это, хотя я наперечет знал почти всех жителей этой деревни. На всякий случай мы с Митей начали усиленно махать платками, а Михаил Алексеевич – своей белой панамой.
Продолжение следует