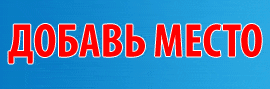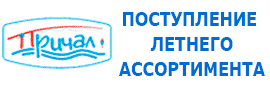Карпия
Александр Мельшин, г. Н. Новгород
Я долго не мог взять в толк, почему русский человек, столь меткий на прозвища, дал этой рыбе-увальню, среди прочих, и такое хищное имя. Карп, короп, сазан – все прозвания более шли этому губастому прудовому бугаю, своим видом, хоть и могучим, но мало напоминавшим поджарых щук и судаков. Колючий, задиристый ерш назван ершом полно – ни взять, ни прибавить. А тут толстая водная скотина, пугливо и по-коровьему досыта пасущаяся в травяной мути, и вдруг – “карпия”. Живоглотное на слух, лютое, имя. Эта была одна из молчаливых загадок, о которых невольно думаешь, глядя на поплавок, а когда взгляд устает, поверх него – на переливы раннего неба, черты трав, стелящихся по белой от солнца воде, странное дрожание в стеблях кубышки…
Третьего дня Петрович сказал, что больше не гоняют с обводной, идущей вдоль самого Велетьминского пруда. Внизу, за плотиной, все ручьи и баклужи Велетьмы были всегда вольными местами, даже самые дурные сторожа никогда не гнали рыбаков, сидящих ниже шлюза. Но обводная, идущая вдоль самого пруда, мимо прудиков-садков, была местом, куда шибко не совались. Год от года среди рыбацких говоров все прошептывался слух о крупняке, словленном “за прудом налево”, такой же разбавленный, как прочие ветреные, смолёные беседы. А теперь Петрович, отведя согбенную, словно хватившую разок углей из самой топки, ладонь и чуть кивнув в сторону – мол, “решать-то вам” – пробормотал, что на обводной все же ловят, и ловят спокойно.
– Самое оно на берег к пруду не лезть. Оттуда они кипиш поднимут, а на том, что к лесу – сиди, не тронут. И вот там и сидят, ловят.
– А что ловят-то? – с азартом щекотал новый интерес.
– Карась хороший, я видел, плотва еще. На карпа сидят.
Ну, там, я посмотрел, интереснее, чем где мы сидим. Вадимович курил и как-то разборчиво, словно перекатывая сготовленную, с пылу с жару, тяжеленькую задумку, посмотрел в сторону. Все мелкие нестыковки по времени и заботам перебирал он в голове, и ни одна, судя по ровному его взгляду, не вдербанивалась взъерошенной занозой в новую, желанную зорю.
Вадимович отсчитал три дня. Заря эта началась туманной серостью, висевшей повсюду в воздухе, даже высоко, на верху плотины, по которой мы шли к обводной. Вперед проехали пара мопедов, по-ночному отсекая след красными огнями. К рамам были косо привязаны снасти. По кутаным фуфайкам, по невозмутимости поз этих утренних наездников, по ломовым доночным удилищам угадывались наши лещатники, завсегдатаи окских берегов от Шиморского до самого Жайска. И уж их-то в ту неясную рань с лещовых бровок Оки могло сорвать что-то крепче, чем серая парная дымка карасевых прудов.
На воде слышались первые редкие всплески утренней гульбы. До обводной мы втроем дошагали уже с первым лучом. Он серебрил канаву, тянущуюся от дороги сотни две метров в мелком, болотистом русле. Вода белела, а берега были темные, и на этой светлой глади проступали догадкой, как угадываются недописанные черты в черном по белому, портретном силуэте.
Вадимыч с Петровичем остались на мелководье, берег там был удобнее, и травные подводные урочища – благолепно карасиные. А я вышел дальше, на канал. Ранняя чайка с большого пруда непривычным в лесах криком ерепенила задумчивое утро. Но обводная мне не приглянулась – ровный высокий бережок, ни заводи, ни кустика, только кувшинки у мостка. Такие места все же не располагают к ловле, они картинны и пусты, как раздолье вызревших полей. Но зверь и человек ищут в полях малого околка, рощи или оврага… И в воде все живое, даже блеклые водомерки, тянется хоть к жалкому укромью, прячется в неудобьях. Поплавок, отскакав волнующую дробь, нырнул от кувшинки – и первая плотвица пошла в садок. Средняя, не пестрая. На червя.
Но клева и не было…Поплавок сначала один, а потом и второй, чуть утопал, чуть дергался и замирал, как прежде. По тропе подошел лещатник в расстегнутой фуфайке и какой-то бесформенной шляпе. На лоб лещатника были сдвинуты очки, и мне показалось, что он до тихой матерщины жалеет об их никчемности в сумерках, так что, наверное, идет ко мне с просьбой о чем-нибудь кропотливом и мелком… Но лещатник, один из гордых выжидателей удачи под глинистыми обрывами большой реки, остался верен себе:
– На что ловишь?
– Одна на опарыша, на плотву стоит, вторая с червем, на карася. А вы?
– Тоже…одну, как ты, на плотву, вторая – там червяк и кукуруза. Кормишь?
– Магазинной… Тут хорошо – рыба чистая вся, брать если… Это на Оке – дрянь.
– А берет? – Пока нет… Лещатник покосился дальше, за мосток, но, не углядев Вадимыча, отрывисто вздохнул так, что воздух шершаво прошел по зубам, и ушел восвояси, не прощаясь.
Всю свою подонную, долгую ловлю проводит лещатник в ожидании, взглядом и надеждой уходя по сигнальной нити, пущенной в глубь другого мира. Но река не открывается ему, не читается строкой на острие проводки, и лещатник все сердечно ждет только, как поплывет по руслу, раздушится у дна особый аромат. Оттого первым обычаем справляется он о прикормке, приманке и, веря старым рецептам неизданных поваренных книг, сам дописывает их.
С неверной протяжной поклевки угодила вторая плотвица. Шел август, а плотва рыскала в полводы и держалась вразнобой, не стайками. Время отваливало к шести утра, и солнце забирало себе небо. Золотое масло расплывалось у кувшинок, и утекала по капле, вместе с ранним клевом, куда-то в подводные чертоги туманная зорька. Нужно было бы сходить, спросить у Вадимовича, и, если у них дела получше, двигать туда. Но заплясал вдруг поплавок легкой удочки. Поклевка была обыкновенная, нырнет – всплывет, снова нырнет, поглубже, и потянуло вниз. Я подсек с расчетом на плотву, плавным, не слишком длинным взмахом. А снасть осела не под плотвичкой. Показалось, клюнул хороший карась, граммов в двести, может побольше… Но стоял на месте, уперся както молча и не шел ни в сторону, ни ко дну.
Я потянул сильнее, еще подумав, что карася такого и тонкой снастью смогу продернуть вверх. И он пошел короткими толчками чуть-чуть в сторону к берегу, леса стежок за стежком стала мелко шить воду, и чувствовалось крупное мотание под этой дрожью. Граммов на семьсот скорее... Такого бы завернуть быстро к себе, может и потянуть еще. Мгновение сумел я продержать снасть, все ожидая, как развернется трофейный карасище на поверхности, но далеко от поверхности, разом забрав всю вытянутую леску, расшевелилось, раскачалось что-то здоровое. И шевеление это прошло по воде до берега, как чуется в весеннем лесу разрушение сонной берлоги. Удилище согнулось верхними коленами к воде, а леска зазвучала. Рыба рванула теперь с места за кувшинки, но не оборвала первым рывком, все сидела на крючке.
Ни Вадимович, ни сосед-лещатник – никто не видел, как пошел сердитым разгулом карп-шатун, а я, перетаптываясь, крутился на месте, сколько можно вытягивая удильник и отдавая леску. Но все равно оборвет… Лучше-то и не думать. А карп развернулся за кувшинками и пошел опять к берегу, леска резанула стебли. Потом мы все шутили с моего рассказа, что он всплывал глянуть наглость человечью – дерзнуть на него. Вид его был совершенно не такой, какими показываются прочие пойманные белые рыбы, они и бьются, и смотрят на воздухе инстинктом, тонким нутряным влечением жизни, а он смотрел спрятанным, диким помышлением. Я подумал, что раз всплыл, значит, поддался, и забрал удильник на себя, свел растянутый угол лесы. Карп открыл рот, здоровый, круглый, с парой усиков, шлепнул губами и хватил воздуха. Владей он звуком, ни стон, ни хрип, а что-то паршивое о человеке бросил бы он …
Лещ, дохнувший с поверхности, способен еще на один рывок, крупный – на пару, карась от воздуха бьется еще сильнее, пока тянешь, а карп одурел от него, как от кабацкого стакана. Прокровоточила в его натуре глубоко спрятанная в белую рыбью плоть свирепая жила. С брызгами ударил он черно-алым хвостом по воде, спрятал взгляд и бросился дальше. Бока с чешуевинами в крупную монету разгорелись бронзой на солнце, рыба громыхала, как тяжелая материя, что полощут с мостков бабы по субботам, гнала волну, как купающийся зверь… И ответила лютому своему имени.
“…Пристанищем карпий обыкновенно бывают глубокие, дикие омута, недоступные неводу”. Аксаков ли? Сабанеев?
Свистящим хлопком вылетела из воды леска и намоталась на удилище… Последним кульбитом разбив хлябь, воскрылив черным стягом-плавником на спине, карпия ухнула в свою неподступную глубину.
Я пнул сапогом берег, какой-то слепой ток рванул в плечах и ушел в ноги... И тут только услышал, как со стороны звал лещатник:
– Подсак-то нужен?
– Поздно! – куда-то наобум вниз откликнулся я. Руки тряслись, светлый боровой ветерок казался обидно безучастным. По разливу солнца колыхалась на воде срезанная кувшинка.
Я ходил кругами в траве и зычно дышал носом. Поднялся с берега лещатник и сунул руку в карман: –Ты на, земляк, на, покури… Плотва еще клевала в то утро.
РЫБАЛКА КРУГЛЫЙ ГОД № 18(368), 2017 г.